Олег Неменский
(Доклад научного сотрудника Института славяноведения РАН, ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследования Олега Борисовича Неменского, прочитанный на международном круглом столе «Осмысление альтернативных концепций российско-белорусской истории», прошедшем 6 марта 2018 года на Историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова).
Есть большие сомнения, что возможно создать совместную российско-белорусскую концепцию белорусской истории. Наши коллегии из Белоруссии в основном вынуждены работать в рамках государственной идеологии и вполне понятного идеологического заказа сверху. Его суть состоит в необходимости написания такой отечественной истории, которая бы объясняла и определяла как естественный результат исторического процесса факт появления независимой белорусской государственности и особой этничности, складывания «белорусской нации». Это объективная задача молодого государства, она не зависит от того, какая власть в Минске. Однако надо понимать, что перед российскими историками такая задача не стоит. Более того, пока что они свободны от какого-либо заказа сверху в этой сфере. А значит, здесь историческая белорусистика будет развиваться другими путями, что мы уже и видим.
При этом перед нашей наукой стоит задача формирования российской исторической школы изучения Западной Руси. Печально, что она до сих пор не сложилась, однако, думается, что это дело довольно близкого будущего. Но начало её становления – выработка собственного языка. Несомненно, что проблема нахождения адекватного этой истории языка будет становиться всё актуальнее и настоятельнее.
Язык описания исторических реалий Западной Руси, которым оперирует современная российская украинистика и белорусистика, сформирован в советские годы и прямо обусловлен принципами национальной политики, разработанными Лениным и Сталиным, в том числе известной доктриной «сдерживания старшего брата». Сложившаяся за эти десятилетия традиция принципиально отличается от мэйнстрима русской дореволюционной историографии, развивая, скорее, принципы, разработанные украинской школой конца XIX – первой трети XX века. Однако и последнее можно утверждать, только говоря об усечённых их формах. Если для русской школы было свойственно утверждение о «русских», состоящих из «малороссов, белорусов и великороссов», то советская традиция, восприняв свойственное украинской школе переведение акцента на нижний уровень трёхслойной системы этнической идентичности (славяне – русские – малороссы) и отрицание общего названия для восточных славян уже с XIV века, тем не менее сохранила русский этноним конкретно для одного из «восточнославянских народов» – старых «великороссов». Последнее ломало схему украинской школы, отрицающую существование чего-либо русского в ХХ веке (да и значительно раньше), сохраняя, вместе с тем, как бы отголосок отвергнутой старой общерусской школы.
Много раз декларированный отказ от советских идеологических догм в историографии 90-х фактически не затронул вопросов этнономинации истории земель Руси. Подавляющее большинство российских историков следует прежней схеме, есть, однако, и попытки вернуться к схеме общерусской. В вяло идущих спорах на эту тему основным и наиболее часто повторяемым аргументом первых является недопустимость словоупотребления, которое может затронуть чувства национальной гордости белорусских и украинских коллег. Однако вряд ли такой аргумент может быть признан научным.
Проблема состоит в том, что как советская схема, так и старая общерусская, к настоящему времени уже вошли в сильное противоречие с современной украинской и белорусской историографией и национальной идеологией. Противоречий, главным образом, два. Это, во-первых, тезис о существовании в прошлом единого древнерусского этноса, который впоследствии претерпел распад. Во-вторых, признание русского имени именно за великороссами – это положение принимается белорусской историографией, однако отрицается украинской. Таким образом, попытка обоснования советской традиции от политкорректности проваливается.
Незначительно улучшает ситуацию и возвращение к дореволюционной общерусской схеме, в рамки которой не укладываются события ХХ века. Не спасает положение и активное употребление слова «восточнославянский». Во-первых, современная белорусская и украинская историография всё более отходят от представления об этнической общности восточных славян, усматривая огромные различия в бытовой культуре у предков россиян, украинцев и белорусов ещё в археологических культурах I тысячелетия, и устанавливая связь между этими культурами и возникшими потом этносами1. В некоторых работах историки само обозначение «восточных славян» оставляют вообще только для россиян, составляя для древних украинцев и белорусов иные обозначения («юго-западные», «северные» и т.д.). Кроме того, употребление слова «восточнославянский» применительно к населению земель Руси в эпоху после Владимира Святого представляется странной с точки зрения ещё одного участника рассматриваемого историко-номинологического спора – польской историографии. Проблема тут даже не только в поляках – понятие о «восточнославянском» воспринимается как относящееся к догосударственной стадии развития и вообще на Западе. Впрочем, польский вариант решения проблемы, то есть обозначение этого населения «Ruskim», но в принципиальном отличии от «Rosjan»-московитов, вряд ли может быть воспринят российской историографией, так как опять же отрицает русское происхождение государствообразующего народа РФ, да ещё и ограничивает сферу применения этнонима «русский» только предками украинцев и белорусов.
Не помогает и стратегия обозначения жителей Западной Руси «белорусско-украинским населением». Помимо очевидной модернизации, отрицающей их самосознание, такое понятие подразумевает ещё и наличие осознанной этнической границы между предками современных граждан Украины и Белоруссии, а в источниках по крайней мере до XIX века, как нередко отмечает Б.Н.Флоря, мы эту границу не находим – восточнославянские жители Речи Посполитой осознавали себя единой общностью.
Несомненно, что проблема нахождения адекватного истории языка будет становиться всё актуальнее и настоятельнее. Представляется, что по ходу попыток найти собственно российский историографический язык этнонимов прошлого следует исходить не из соображений политкорректности – её вариантов довольно много («на всех не угодишь»), а в результате всё сводится лишь к выбору политической лояльности историка.
Стоит обратить внимание на тот факт, что современная этнология (я имею в виду послевоенный период её развития) как на Западе, так и в нашей стране, пришла к выводам, которые могли бы значительно облегчить наши поиски адекватного языка описания. Здесь для нас актуален в первую очередь тезис, согласно которому в констатации наличия той или иной этничности важнейшим фактором признаётся наличие самосознания, закреплённого в самоназвании (этнониме). Надо заметить, что этот тезис является важнейшим не только для западной этнологической мысли, в которой явно преобладает конструктивистская школа, но к нему пришла и отечественная примордиалистская этнология ещё в советское время. Вот, например, ведущий отечественный этнолог Ю.В.Бромлей в своей книге, изданной в 1983 году, определяя этнос через «общие относительно стабильные особенности языка и культуры», главным в его определении считает признак устойчивости этнонима, а абсолютно необходимым этническим признаком признаёт этническое самосознание, выраженное в самоназвании2. Возможно, если встать на позиции такого подхода и констатировать ту или иную этничность населения земель Руси в ту или иную эпоху исходя из употреблявшихся этим населением самоназваний, а не исходя из часто меняющихся систем политкорректности современного нам времени, мы и получим желаемый нам независимый от политики и политиканства язык номинаций, имеющий прочные научные критерии обоснования в нашей источниковой базе.
Какие тогда перед нами встают проблемы?
Во-первых, это подчас сильное несоответствие имён больших социальных групп прошлого с употреблением и восприятием этих же имён в наши дни. Не вызывает сомнения повсеместное господство русского самосознания в культурных центрах восточных славян начиная по крайней мере с конца XIII века3. Однако, если мы примем тезис, что говорить о русских в прошлых столетиях можно только тогда, когда называвшие себя так подразумевали под этим самоназванием то же, что и мы сейчас – нам придётся начинать историю современного русского народа даже не с XIX-го, а, наверное, со второй половины XX века.
То, что этническая самоидентификация в разных столетиях имела разные свойства и разную смысловую нагрузку – вряд ли повод, чтобы заниматься переименованием всех тех, кто осознавал себя тогда сохранившимися по сей день этнонимами, или же выявлением цепочек различных «русских народов», существовавших в разные эпохи. Представление о том, что значит «я русский», может меняться и у одного человека на протяжении его жизни, причём во многом эти изменения будут культурно и социально обусловлены. Так же вряд ли аргументом в пользу таких переименований могут быть пространственные различия в понимании собственной этничности. Это порождает совершенно бессмысленные споры о том, кто был «настоящим русским» в каком-нибудь XV столетии – жители Львова, Киева, Полоцка или Москвы. Также вряд ли осмысленно выделять различные русские (или какие-либо ещё) народы по социальному признаку: ясно, что крестьянин, называя себя «русским», мог подразумевать под этим не совсем то, что придворный великого князя. Популярная у советских историков концепция «двух культур» – элитной и народной – в данном случае может привести к весьма странным результатам.
Все подобные споры – кого называть «русским» в XVII веке – считавшего себя таковым полочанина или новгородца, или тогда уже не было «русских» вообще – имеют явную модернизационную основу и связаны со стремлением «национализировать» прошлое. Отсюда же и стремление отказаться от фактора самоидентификации вообще, выделяя «объективно сформировавшиеся этносы». Самосознание тогда предстаёт чем-то дополнительным и необязательным. В украинской историографии на этой основе возникла теория «дремлющего украинского самосознания», когда русская самоидентификация прежних жителей территории Украины объясняется просто тем, что украинское самосознание ещё «не проснулось». Такая формулировка попала даже в наиболее официальную версию украинской истории, представленную в книге тогда ещё президента Украины Л.Кучмы «Украина – не Россия»: «Украинцы, о которых я говорю, не были отступниками, не будем обвинять их напрасно. Они считали себя русскими из Малороссии. В их время украинское сознание ещё не пробудилось настолько, чтобы они подчёркнуто считали себя украинцами в России»4. Однако и путь выявления «объективных» характеристик этноса на деле оказывается ещё более спорным и проблематичным, чем ориентация на самоопределения, приводя ко множеству вариантов выделения и различения «объективных характеристик». Многие из них носят почти расистский характер.
Главной причиной подобных проблем представляется свойственные нашему ещё во многом нововременному сознанию националистические структуры мысли. У нас есть подсознательная потребность видеть современные народы если не в каменном веке, то по крайней мере уже в средних веках – это служит важным психологическим дополнением к нашему национальному самосознанию. Но, опять же, стоит ли этой «национализацией прошлого» заниматься профессиональному историку?
Думается, что споры о том, кем были люди с русской самоидентификацией в прошлых веках, вообще можно оставить в стороне от затронутой нами проблемы. Вопрос о том, как их называть – это не вопрос о том, кем они были «на самом деле». Были ли киевлянин и москвич, считавшие себя «русскими» в том или ином веке, представителями одного народа, или же разных, лишь совпадая в самоидентификации, — тема иных дискуссий. Речь идёт о языке описания. Называя русскими всех, кто называл сам себя так, мы не теряем возможности постановки вопроса «а были ли эти русские одним народом или нет?». Однако мы и не грешим против факта общей русской этничности (этно-самоидентификации). Она действительно была общая, и не по созвучию, а по происхождению – с этом никто из профессиональных историков особенно и не спорит.
Говоря о языке историописания, очень важно различать два вида терминов: исторические и историографические. Исторические – которые мы берём из текстов наших источников и надеемся, что употребляем их примерно в том же значении (а на этой надежде основана вся работа историка). Историографические – специально изобретаемые нами и вводимые в исторические тексты как уже результат нашей осмысленной интерпретации прошлого. Важно, чтобы эти термины соотносились обусловленно.
Современная белорусская историография употребляет слово «белорусы» для обозначения современных и живших в ХХ веке людей с определённой белорусской идентичностью (термин исторический), и, одновременно, для наименования людей прошлого, белорусского самосознания не имевших, но являвшихся, на взгляд таких историков, всё же белорусами (термин историографический). То же самое мы видим и в текстах украинских историков. Наличие одновременно одинаково звучащих исторического и историографического терминов «белорусы» и «украинцы» создаёт, особенно у неподготовленного читателя, ощущение тождественности. К тому же, слишком уж зыбка граница между двумя терминами, и границы употребления второго – очень спорны. По сути, такая ситуация просто смешивает два различных по типу понятия по принципу созвучия, что можно признать просто историографической ошибкой, если бы не её политическая основа. Термины историографические просто не должны повторять реально существовавшие (или существующие) имена и понятия прошлого, так как не гарантируют понимания читателем их различного характера и – фактически – фальсифицируют историю.
Потребность различения русских, живших в Западной Руси, и русских, живших в Руси Восточной, несомненно, есть. Но так как сама историческая ткань не даёт нам материала для их различения, стоило бы ввести его на уровне понятий, имеющих откровенно историографическое происхождение. Например, почему бы не употреблять для их различия слова «западные» и «восточные»? Ведь такое различение проводилось в русской досоветской историографии. Как различаются в историографии остготы и вестготы, несмотря на то, что и бытовая и духовная культура, и ареалы расселения, как и, наверное, историческая память у этих народов со временем стала сильно разниться. Вряд ли осмысленны споры, кто из них был «настоящими готами», и такое словоупотребление вряд ли кого из историков или читателей их текстов может натолкнуть на мысль, что сами готы той эпохи осознавали себя «восточными» или «западными». Равно как и споры, кто из русских XVI века был «настоящим», а кого надо называть как-то иначе.
Среди различных иных предложений наиболее часто встречается употребление относительно западнорусского населения имени «рускі» в белорусском или «руський» в украинском написании. Основано оно на идеях венских историков конца XIX – начала ХХ века различать галичан и русских, живущих в Российской империи, с помощью различного количества букв «с». В наше время особенно активно этот подход поддерживается украинским академиком П.П.Толочко. Однако такие предложения могли иметь место в период выработки литературных норм языка, но вряд ли могут быть приняты в наши дни. Грамматика русского языка просто не позволяет образовать от слова «Русь» форму прилагательного с одним «с» (второе «с» неминуемо появится в суффиксе). Не утвердилась эта традиция и в украинском или белорусском языке – здесь фонетическая грамматика не позволяет образовать форму уже с двумя «с». Столь же наивно и стремление различать «древних» украинцев и белорусов как народы с мягким знаком в названии и без оного.
Не менее странным представляется и проект наименования западнорусского населения «рутенами». Во-первых, если мы решаем употреблять чисто историографический термин «рутены» к жителям Западной Руси, на каких основаниях, кроме политических, мы оставляем историческое имя жителям Руси Восточной? Если же полностью отойти от «русского» имени в описании прошлого, и обозначать одних – латиноязычным «рутены», а других – грекоязычным «россы» (уж, наверное, не «россияне»), то такую границу разумнее проводить между русскими, ориентированными на греческую культуру, и русскими, ориентированными на латинство (то есть, по сути, между православными и униатами), что опять же создаёт ложное впечатление об их различной этничности5.
Ориентация на этнические самоназвания с чётким различением между вводимыми историографическими понятиями и собственно историческими представляется наиболее разумным выходом из имеющейся проблемы. Право говорить в научных текстах о чём-либо белорусском, украинском или великорусском мы получаем только по факту выявления соответствующего самосознания в наших источниках. Остальное – сфера политики.
Список литературы: 1 См., например, схему, представленную в школьном учебнике «Історія України» (під ред. акад. В.А.Смолія. Київ, 2002) на стр.23.
2 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 45-49 и 57. 3 См., например, обзорные статьи на эту тему Б.Н.Флори: Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII – XV веках (к вопросу о зарождении восточнославянских народностей) // Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995; Его же. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху Средневековья – Раннего Нового времени // Россия – Украина: история взаимоотношений. М., 1997.
4 Кучма Л. Украина – не Россия. М., 2003. С.159.
Олег Неменский
Сайт о самых актуальных мировых тенденциях. На нашем сайте полезная информация на тему финансов, здоровья, социальной успешности и личного развития. А также новости, исторические факты и прогнозы футурологов, медицина и образование, гендерные отношения.





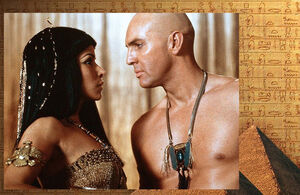

Комментарии (0)